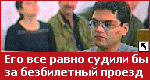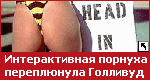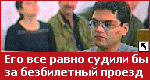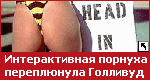[02.10.2000 16:21:53]
Андрей Тургенев
История слепоты
Проснувшись, по-привычке, утром, аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес (Borges) посмотрел в зеркало и обнаружил там кошку. Это происшествие вряд ли оказало бы роковое влияние на судьбу автора "Истории вечности": кошка Борхеса и раньше имела обыкновение отражаться в зеркале и сам по себе этот факт не за-служивал бы специального внимания. Дело, однако, в том, что в комнате кошки не было.
Х.Л.Борхес был не то чтобы удивлен - он был заинтересован. Вариант пропажи не отражения (что обильно отрефлексировано во многих томах вавилонской бибилотеки), а первоисточника показался ему весьма любопытным. Если отсутствие отражения живо (а впрочем, за истрепанностью соответствующих страниц, лениво) ассоциировалось с продажей души и свидетельствовало о связи неотражаемого с потусторонними силами, то отсутствие оригинала, очевидно, было призвано свидетельствовать, напротив, о его божественной природе. Приключения изображений, в общем, как и приключения всех остальных цитат, всегда казались Борхесу корректными; зазеркальное пространство легко трактовалось и как царство дикого бессознательного и как поле изощренной культурной игры, - в обоих случаях откровенная чудесность сюжетных ходов воспринималась естественно. Но неожиданное доказательство того, что и посюсторонний мир способен подчиняться сказочному алгоритму, могло восприниматься как своего рода торжество лукавой поэтики самого хозяина кошки. Наконец, Борхес удовлетворенно отметил, насколько удачен выбор жертвы: именно кошка с ее медиативной, лунарной и откровенно амбивалентной природой как нельзя лучше подходит на роль связного между двумя мирами.
За такими и подобными размышлениями Борхес произвел неизменный утренний ритуал: стыдливо почистил зубы, умылся, сварил кофе, налил в блюдце молоко... Буквальный смысл последнего жеста остановил руку писателя: он понял, что отсутствие кошки в комнате, помимо повода к любопытным построениям, способным украсить "Тезисы" какого-нибудь туманного симпозиума по ассиметрии, значит и еше кое-что, а именно и собственно отсутствие кошки в комнате и, следовательно, определенные сложности с ее завтраком. Борхес делал с цитатами все что угодно, но до сих пор ни разу не поил их молоком.
Борхес осторожно перенес блюдце в комнату, убедился, что в положении кошки существенных изменений не произошло и, пребывая в некотором сомнении, поставил блюдце перед зеркалом, где оно, несколько успокоив писателя, с готовностью отразилось. Кошка как ни в чем не бывало склонилась к молоку. Наклонившись над блюдцем, Борхес убедился, что молоко послушно убывает.
Он потянулся за трубкой, как бы продолжая сюжет утреннего ритуала и обеспечивая очередной эпизод истории о кошке и молоке. Пока рука мастера двигалась по направлению к трубке, в голове писателя сам собой выстроился ряд неприятных соображений. Может быть, именно он, Борхес, находится в зеркале? Тогда отсутствие кошки рядом объясняется вполне банально. Это, конечно, компрометирует животное, устанавливая его связь с силами мрака, но во всяком случае такое поведение кошки мотивировано богатой культурной традицией. Версия эта, которая было пришлась Борхесу по вкусу, проваливалась в одном существенном пункте: писатель подумал, что включенный наблюдатель не имеет возможности определить, по какую сторону зеркала он в данный момент находится.
Окружающее пространство ничем не выдавало своей истинной природы, а единственная несовпадающая единица, способная что-то прояснить, сиречь кошка, как назло впала в сонную египетскую загадочность. Неотличимость зазеркалья от дозеркалья тешила, конечно, творческое самолюбие писателя, но кое-что пугало. Борхес, - сколько он ни убеждал своих читателей в обратном, - не имел реального опыта жизни в зеркалах. В конце концов он решил условно решить, что свойства пространства по обе стороны амальгамы условно одинаковы, а потому вопрос о первоисточнике не имеет актуального значения.
В этот момент рука добралась до трубки и обнаружила, что трубки нет. Борхес строго посмотрел на зеркало: отражение трубки было на месте. Борхес отер со лба пот, сел в кресло и понял, что чашку кофе постигла судьба кошки и трубки; он еще успел увидеть, как растворяется на подносе тень чашки. Борхесу стало совсем уж неуютно. Некстати он еще вспомнил вдруг тревожный сон, явившийся ему сегодня перед самым пробуждением: снилось что-то совершенно не существующее, какая-то пустота и темнота. Он настолько ничего не видел в этом сне, что это не могло не быть знаком. Борхес постарался отогнать противные мысли и нервно принюхался, надеясь уловить запах серы. Тщетно.
И Борхес понял, в чем, собственно, дело. Он посвятил жизнь доказательству того, что знак способен испытать стоящее за знаком. Он всю жизнь искал слово, способное быть равным миру, и верил, что пусть он не нашел такого слова, но зато нашел такие сочетания слов, которые рассказали о слове, равном миру. Он заставлял отражения отражать друг друга, взаимно умножая зеркала. Он возомнил, что овладел чистым принципом зеркальности, явленной в такой концентрации, что не ведома ни одному живому зеркалу. Он возомнил себя повелителем зеркал. И зеркало решило показать Борхесу, кто больше понимает в опосредованиях, инверсиях и цитатах. Продемонстрировать, что патентованный властелин лабиринта легко заблудится в двух комнатах, разделенных стеклянной перегородкой, и не сможет отличить яви от грезы. Зеркало вызвало Борхеса на поединок. Строго говоря, ему следовало утащить из комнаты перчатку.
Это было бы куда остроумнее, чем даже кошка. Борхес почувствовал, что сочинил более изящную версию. Борхес решил, что выиграл первый гейм. Более того, он выиграл его как бы за зеркало, что как нельзя лучше соответствовало духу странного состязания. В следующее же мгновение он сообразил, насколько дебютная уловка зеркала сильнее и этого хода: если редуцировать метафору дуэли до традиционной для этого жанра стрельбы, то точный выстрел со стороны Борхеса будет еще одним успехом соперника: получится, что зеркало втянуло и пулю... Борхес понял, что борьба будет очень серьезной, но принял вызов.
Будучи уверен, что зеркальная насыщенность его книг сильнее способности любого отдельно взятого зеркала, Борхес положил перед мятежным стеклом том своих сочинений. Книга вошла в зеркало, как вода в воду: поверхность не шелохнулась и никакими тепловыми, визуальными или акустическими эффектами кража не сопровождалась. Борхес моргнул. Книга была в зеркале, в комнате книги не было. Кошка сладко зевнула и перевернулась на другой бок. Борхесу показалось, что зеркало усмехнулось.
Неудачу он объяснил себе просто: субстанция зеркальности не сфокусирована в некоем определенном сегменте книги, а размазана по страницам, разлита по разным текстам, растеклась по корешку и обложке: она - клей, что скрепляет воедино идеи, имена, богов и героев, она - кровь, на которой замешен раствор, - но чтобы победить зеркало, необходимо явить ее в чистом виде, без примесей и сказуемых.
И Борхес сел писать эссе о зеркалах; эссе, в котором должно было сойтись все, что он знал об инверсиях и отражениях, о двойниках и тенях, о стекле и амальгаме, о симметрии и конгруэнтности; эссенцию чудовищной концентрации, превращающую и знаки письма, и саму бумагу - в зеркала. И, зная об этом предмете действительно больше кого бы то ни было из смертных и бессмертных, он не сомневался в победе своего гения.
Он расположился прямо перед зеркалом, он зарядил ручку самыми лучшими чернилами и достал самый белый лист. Ему не нужны были книги или конспекты, он помнил наизусть все цитаты и даже внешний вид соответствующих страниц (оборванный краешек, пролитый чай, пометки на полях); лихо закрученная и прекрасная в гениальной простоте доказательств концепция вся, до последней подробности, словно приплясывала перед глазами; мозг работал необычайно ясно и четко; Борхес готовился торжествовать.
Едва перо коснулось бумаги и потянулись к правому полю черные колонны рядовых алфавита, Борхес понял, что никогда ему еще не удавался столь совершенный, столь близкий к сокровенной мечте - исчерпать словом Вселенную - текст. Колонны, строка за строкой, стремительно заполняли белый плацдарм, спешили, задние наскакивали на передних, кое-где возникали заторы и свалки, но шагающие быстро выравнивались, чтобы продолжить триумфальный парад. Борхес увлекся письмом; просчитывая текст на две страницы вперед и страшась потерять предстоящие мысли, он торопился, пропускал, оставляя на потом целые абзацы; и пропущенные абзацы сами чудесным образом втискивались на законные места, проявлялись из бумаги, как тайные письмена; и Борхес понимал, что ему - наконец - даровано это чудо и что он обязан им схватке с зеркалом.
В этот момент взгляд его случайно вернулся к началу страницы; Борхес ойкнул и уронил стило; передовые колонны плавно исчезали - казалось бы, на глазах, но в действительности даже не оставляя шанса зафиксировать момент отслоения от листа... Борхес сидел, опустив руки, драгоценный текст медленно, но неотвратимо расставался с бумагой. Борхес сделал неопределенный жест в пустой надежде остановить побег: бумагу оставляли уже последние строки. Зеркало не улыбалось более. Оно смотрело на поверженного Борхеса даже, кажется, и с сочувствием, и с пониманием, лишний раз, впрочем, подчеркивая этим безусловность своей победы.
Борхес упрямо наклонил голову. Поражение потрясло его, побелевшие пальцы сжали подлокотники кресла, грудную клетку сокрушил тяжелый вздох. Он нашел в себе волю объяснить и этот неуспех: даже магия текста не в состоянии справиться с великой силой зеркальности. Между идеей и зеркалом лежало письмо, он не мог атаковать напрямую. По лбу его катилась толстая капля пота, и Борхес, нервы которого были оголены, весь ушел чувствами в ее шарообразность - форма идеального зеркала - и поразился, насколько сложен и изменчив рельеф лба.
У него остался третий и последний шанс - не гасить силу в вате бумаги и идей, а противопоставить зеркалу самого себя. Пусть он так и не нашел слова, равного имени Бога, но душа его равна имени Бога, соразмерна природе, культуре, Вселенной и умеет отразить не только мир, но и все его бесчисленные отражения.
Он встал, едва не опрокинув кресло, уронив на пол плед. Он закурил сигарету - скорее из любви к ритуальным жестам. Кошка в зеркале неторопливо удалилась за раму, очищая поле брани. Старые настенные часы замедлили ход, прислушиваясь, а потом и вовсе остановились. Это был знак к последнему испытанию. Борхес рассслабился, вновь собрался с силами и бросил навстречу зеркалу упрямый взгляд. В остановившемся времени напряжение тянулось мучительно странно; воздух клубился пустотой; тишина мерно и гулко густела. Борхес попытался крикнуть, шепнуть, двинуть рукой и понял, что парализован. Ни единого звука не доходило из оцепеневшего мира. Дымок брошенной им сигареты так и не расстаял.
Борхесу на миг показалось, что он побеждает. Показалось, что зеркало треснуло, что ломаные линии побежали от центра к краям, но он быстро понял, что трещины - отражение лопнувших от напряжения сосудов его собственных глаз. Борхес вдруг сделал шаг по направлению к зеркалу и, не успев осознать, испугаться, сделал второй.
Зеркало неумолимо влекло его к себе, в себя. Подчиняясь губительной воле, рука коснулась роковой поверхности и, не встретив сопротивления, очутилась по ту сторону. Борхес подумал, что исчезнуть, оказывается, очень просто... Он шагнул в стекло. Он почувствовал, что по эту сторону остались уже только одна нога, голова и часть туловища.
И тогда он снова вспомнил свой тревожный сон и понял, что казавшаяся губительной темнота была на самом деле счастливой подсказкой, моделью спасения. Последнее, очаянное усилие мысли вспыхнуло надеждой; только теперь Борхеса осенило, что его враг живет постольку, поскольку он, Борхес, дает ему жить: поскольку глаз отражает и преломляет свет. За миллиметр до небытия Борхес догадался, что должен ослепнуть. Он вложил в этот жест все силы, всю жажду земной жизни и всю неготовность к иной, все свои озарения и знания, все ценности библиотек, галерей и музеев; он смог. Вязкая темнота затопила зрение. Зеркальная хватка ослабла и исчезла совсем. Борхес был слеп и свободен.
Он упал спиной на ковер, хватаясь руками за вечную черноту. Он лежал и смеялся так громко, как не смеялся никогда в жизни.
|